Вернуться к содержанию номера: «Горизонт», № 5(55), 2024.

Михаил Абрамович Гершензон (1900—1942) получил имя в честь дяди, знаменитого Михаила Осиповича Гершензона: историка культуры, литературоведа и переводчика, но прежде всего — пушкиниста. Племянник во многом пошел в дядю, однако он-то прежде всего стал переводчиком, причем выдающимся. Работа над теорией и практикой художественного перевода в какой-то мере заслонила остальные его ипостаси, в том числе собственно писательскую. Что явно несправедливо.
Впрочем, эти ипостаси во многом сливаются. М. А. Гершензон писал прежде всего для детской аудитории, вовсе не считая ее «второстепенной» — и, например, запредельно сложные для передачи на ином языке «Сказки дядюшки Римуса» он не просто перевел, а буквально пересоздал, как позже Заходер пересоздал на русском «Винни-Пуха» и «Мэри Поппинс», а Демурова — обе «Алисы».
Еще одна «пересозданная» Гершензоном вещь — повесть «Робин Гуд», до сих пор остающаяся эталонной на фоне и более точных по форме переводов средневековых английских баллад, и популяризаций, и массы чисто художественных произведений.
Работал он в основном с английским языком, но отлично знал также французский — и немецкий… Поэтому на Великую Отечественную уходит в первые же недели: военным переводчиком стрелковой дивизии. И, когда в бою 8 августа 1942 года был убит комбат, поднимавший солдат в атаку, переводчик, человек вообще-то не очень военный и не слишком молодой, подхватил упавший пистолет командира, повел батальон в атаку сам — и получил смертельную рану…
Михаил Гершензон погиб не как жертва фашизма, а как боец с фашизмом. Похоронен он в братской могиле возле села Никольское в Московской области. В 2016 году на захоронении установлен памятный знак с выгравированной на нем последней строфой из «Робин Гуда»: «Зелёного дёрну под голову мне // И в ноги ты положи, // И лук положи мой бок о бок со мной, // Что музыкой мне служил. // И дуб посади на могильном холме, // Чтоб он мой покой сторожил. // Могилу просторную вширь и в длину // Мне вырой — и люди пройдут // И скажут: „Под деревом этим лежит // Храбрый стрелок Робин Гуд!“»…
А небольшой рассказ, предлагаемый читателям этого номера, — фрагмент короткого цикла об учителе-«растяпе» (кавычки тут необходимы) Степане Петровиче Путанице. Датируется он 1930 годом, но отражает ситуацию прежних лет, послереволюционной школы. Самое фантастичное тут, конечно, — та фантасмагорическая «параллельная реальность», которую охотно принимают ученики, абсолютно уверенные, что революции разных веков — близнецы-братья, а более никто матери-истории не ценен и на уроках истории ни о чем ином говорить особо незачем…
1
Степан Петрович — это наш преподаватель.
Настоящая фамилия его — Пуговицын. Мы прозвали его Путаницей, потому что он очень рассеянный человек.
В прошлом году Еремин встретил его на Моховой. Путаница шел в университет и по дороге читал газету. Правой ногой он шел по тротуару, а левой ногой — по мостовой. Он очень смешно хромал: рубль — двадцать, рубль — двадцать.
Еремин окликнул его:
— Степан Петрович, что с вами?
Путаница остановился.
— Ах, это ты, Еремин! Не знаю, я охромел. У меня одна нога короче другой.
Еремин пришел в школу и рассказал, какая неприятность приключилась с Путаницей.
Сережка Парфенов махнул рукой.
— Это что, — сказал он, — третьего дня он отмочил штуку почище. Мы с Ванькой рыдали. Степан Петрович ждал трамвая у остановки. А когда трамвай подошел, он вдруг снимает калоши. Так и уехал, а калоши остались на мостовой.

Мы Сережке поверили: от Путаницы всего можно ждать. И только Сережка кончил рассказывать, вбегает Крякшин и кричит:
— Ребята, бегите в уборную, Путаница моет руки колбасой.
Конечно, мы побежали в уборную. Путаница стоял у рукомойника и намыливал руки ломтиком московской колбасы. Мылил, мылил, потом плюнул:
— Тьфу, что за мыло такое! Срам один, какое низкое качество продукции!
2
Он преподает у нас обществоведение. И какой молодец! Как пойдет говорить — волосы дыбом, глаза блестят, руками машет. Схватит кусок баранки и пишет ею, будто мелом, формулы на доске про прибавочную стоимость или что-нибудь другое. Потом вытащит из кармана платок, он всегда с доски платком стирает, и давай полировать доску, а доска и без того пустая. И все равно понятно, и никто не смеется, потому что очень ученый человек Путаница и всегда в самую точку бьет — хочешь, не хочешь, а заслушаешься. Мы и не поправляем его, если он оговорится или ляпнет что-нибудь, не в том дело, это всякий знает. Мы уже к этому привыкли. Ясное дело, когда человек в пяти местах лекции читает, здесь про одно, там про другое, а книги пишет про третье, можно и ошибиться.
— Это — мелочи жизни, — говорит Еремин. — А такого другого — поищи. Он тебе все, что захочет, из книг вывернет и перед глазами поставит, как привинченное. Такого другого больше нет и не будет.
Путаница — это наша главная гордость. Мы с Крякшей нарочно ходили в 64-ю школу послушать ихнего обществоведа. Куда! Далеко куцему до зайца.
А все-таки один раз было у нас дело. Так нас Путаница насмешил, так насмешил — целую декаду мы потом хохотали. Как войдет в класс — мы смеяться, и он смеяться. И главное — нисколько он в этом не был виноват. Тут кто не спутает? Тут Путаница не виноват.
3
Пришел он в тот день в ударе. Это по нему сразу видно. Сперва он долго молчал, ерошил волосы и смотрел насквозь. Он так всегда смотрит, если в ударе: уставится на тебя, а тебя не видит, будто ты стеклянный какой. Мы все уж знаем: если долго молчит, значит, не урок будет, а прямо кино. Даже свербит немножко: про что будет говорить. Говорить-то он должен был про японскую войну и про пятый год, это мы знали. А вот как повернет и с какого боку начнет крушить? Будто кайлом каким замахивается, любо смотреть на него, когда так вот молчит.
— Значит, ребята, — начал он вдруг и протянул руку к портфелю, — значит, ребята, сегодня мы будем говорить о последних феодалах. В старых учебниках много говорилось о феодалах. Там написано было, что в средние века феодальная система распространялась на всю Европу. Нас учили, что феодал — владелец земель и дворцов. Он — сюзерен, у него — свои вассалы. Они содержат его, платят ему подати, ходят с ним на войну. Феодалы устраивают турниры — поединки. Вот он едет, закованный в железные доспехи. Конь идет шагом. Это — тяжеловоз, битюг, как у наших ломовых. На бабках у него густые мохнатые щетки. Всадники сшибаются, это бесстрашные люди. Копье ударяется в латы — всадник падает с коня. Он лежит на земле, как железная кукла. Слуги поднимают его и сажают в седло… А вот феодал выезжает на охоту. Пять деревень подняты на ноги — мужики гонят дичь. Какая охота! Десятки ланей, сотни тетеревов! Дым костров застилает небо. В тех учебниках, по которым учились мы, эго было очень красиво. Замки, турниры, веселые своры псов… Теперь вы знаете, что такое феодализм. Вы знаете, что он был и у нас, вам видна оборотная сторона медали. Вы знаете, как недавно мы разрушили в нашей стране остатки феодальной системы. Февраль и Октябрь смели их с лица земли. Красный Париж, как музейную редкость, хранит гербы и доспехи опрокинутых феодалов. Мы победили в турнире.
Никто не поправил Степана Петровича: он говорил о Красной Москве, и никого не смутила его обмолвка. Мы ждали, о чем он будет говорить дальше.
Но Путаница замолчал. Что-то случилось с его портфелем. Он ни за что не хотел открыться.
4
Тогда я тихо встал и подошел к кафедре. Я протянул руку к портфелю, Путаница улыбнулся и закивал головой. Он понял, что я хочу помочь ему.
— Да, да, пожалуйста.
Он протянул мне портфель и отвернулся прежде, чем я успел его подхватить; портфель, как кулек с мукой, плюхнулся на пол, раскрылся, и из него вывалился сверток с грязным бельем (наверное, Степан Петрович пришел к нам прямо из бани); целый ворох листков, исписанных вдоль и поперек, рассыпался по полу. Путаница не заметил, как упал портфель, он говорил дальше. Я плохо слушал его, пока собирал листки. Мне хотелось сложить их по страницам, но третьих страниц попалось две и четвертых две. Всех страниц было по две.
«Конечно, копии, — подумал я. — Это, верно, для книжки».
Пришлось подбирать сразу две пачки. Пропади ты пропадом! Когда я кончил возиться с листками, Путаница рассказывал уже о Николае. Я прохлопал очень важное — причины японской войны.

— Ничтожество этого последнего феодала необыкновенно ясно видно из его дневников. Надо вам сказать, что Людовик XVI вел свои дневники с такой аккуратностью, которой мог бы позавидовать каждый бухгалтер. На протяжении многих лет всякое, даже самое мелкое, событие заносилось им в дневник; именины Александры Федоровны, прогулки по Финскому заливу, завтраки и парады — все решительно, до последних пустяков нашло свое отражение в дневниках Людовика. Их остались от него груды — толстенные томы, тысячи страниц… Я сделал ряд выписок из его дневников…
Тут Путаница заерзал на стуле. Он посмотрел на меня, как на няньку, и я рад был, что могу уже дать ему подобранные по страницам листки.
5
— Спасибо, Гаврилов, — сказал Степан Петрович. — Итак, я прочту несколько записей, сделанных Людовиком в 1904 году. Вот первая: «28 марта. Светлое воскресенье. В церкви пришлось похристосоваться с 280. Разгавливались с удовольствием. Лег спать около 4 часов. Встали в 9½. В 11½ было большое христосованье — около 730 человек. Завтракал князь Орлов. Японцы оставили в покое наш флот в эту ночь».
— «Разгавливались с удовольствием» — как вам нравится эта фраза? Вот о чем думает последний феодал в то время, когда тысячи его подданных погибают в далекой Манчжурии. Эшелон за эшелоном уходит на фронт, чтобы никогда не вернуться. Броненосец «Петропавловск» натыкается на мину, и вся команда идет ко дну. А последний феодал развлекается охотой.

«22 апреля. Четверг. В час ночи поехал на ток около Гатчины, посчастливилось на этот раз, и я убил пять глухарей. Ночь стояла чудная. Вернулся домой в 51/4. Спал до 93/4. Было три доклада. Гулял долго. После чая подарил Алике немного вещей».
«27 апреля. Ночью поехал в другой глухариный ток. Погода была теплая. Убил двух глухарей. Смотрел в саду молодую лошадь, поднесенную с Дону. Гулял. Обедали у себя и немного покатались».
Степан Петрович отложил первый листок и стал подходить ближе к делу — как японцы взяли Порт-Артур. А пока взял второй листок.
«2 апреля, — прочел он. — Дождь помешал охоте на козулю. Проповедь, вечерняя молитва. 6. — Прогулка пешком в Майль, чтобы посмотреть лошадей: застрелил две козули. 14. — Ничего; домашняя обедня, прогулка в карете и пешком в Гонар. 22 апреля — охота на оленя в Пор-Рояле, застрелил двух…»
— Послушай, — шепнул мне Крякша, — он что-то путает. Он только что читал: 22 апреля царь охотился в Гатчине. А сейчас говорит — в каком-то Рояле. То были глухари, а то вовсе олень.
Я пожал плечами.
— Ну и что? — говорю. — Может, числа спутал.
6
— Мы переходим к пятому году, — сказал Путаница и достал из кармана часы. Он долго держал их стеклышком вниз и смотрел на заднюю крышку. Потом сунул обратно в карман. — Вы знаете, как начался этот год, год, который можно назвать генеральной репетицией. 9 января рабочие Парижа со священником Гапоном во главе направились к Зимнему дворцу. Они верили, что Николай выслушает и удовлетворит их требования. Николай встретил своих подданных градом свинца.
«Тяжелый день, — записал в свой дневник император. — В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Мама приехала к нам из города прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей. Принимал депутацию уральских казаков, приехавших с икрой».
— Вассалы еще верны своему феодалу — они привозят ему икру. О чем же тревожиться? Все в порядке. Взят Мукден, японский флот разгромил эскадру в Цусимском проливе. Николаю не до того — он справляет день рождения императрицы:
«25 мая. Среда. Дорогой Алике минуло 33 года. Погода стояла отличная. Были у обедни в Большом дворце и завтракали с семейством. Гулял и катался в байдарке».
Степан Петрович взял новый листок.
«24 мая. Воскресенье. Вечерня. Вечерняя молитва. Прием вновь прибывших представителей трех сословий. Большой обед…»
Чудное лицо вдруг стало у Путаницы: он поднял листок и уставился на него, будто клопа увидел или какое другое насекомое. Потом пожал плечами и снова начал читать:
«25 мая. Визит в Медон».
Тут Еремин крикнул с места:
— Степан Петрович, вы читали уже 25-е.
— Вот, вот. То-то я смотрю — почему это два раза одно и то же число.
«27. — Визит в Медон в 5 часов с четвертью. 28. — Визит в Медон в полдень. 29. — Прием депутации от дворянства… 30. — Визит в Медон пешком; охота на оленя в Маркусси — неудачная».
Степан Петрович отложил в сторону свои выписки и сошел с кафедры. Ходит возле доски взад, вперед, вытирает платком пальцы, будто испачкал их мелом. Наверно, забыл, что урок идет. Потом опять плечом повел и дальше стал рассказывать.
7
— Россия кипит. В конце сентября — в начале октября по всей стране — железнодорожная забастовка. В промышленных центрах — всеобщая стачка. Требования созыва Учредительного собрания. Пролетариат ощутил себя классом. Пули, нагайки, шашки. Но пролетариат наступает, 6 октября председатель комитета министров Витте просит царя принять его для беседы о положении страны — он предлагает конституцию. Но феодал занят. Он — на охоте.
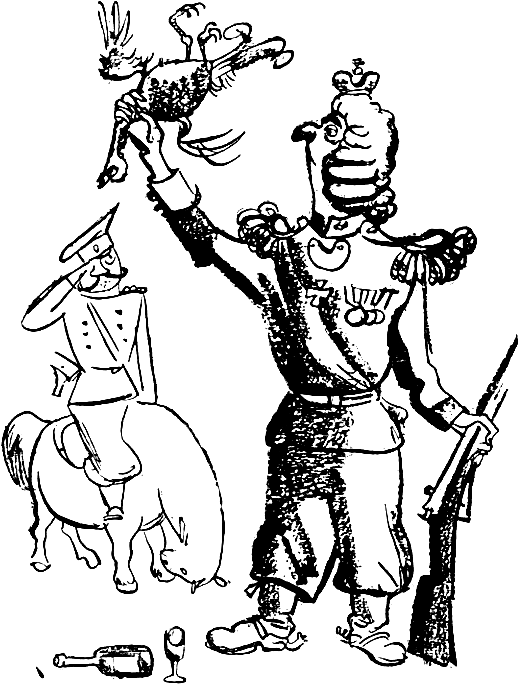
«7 октября. В 8½ час. утра отправился с Дрентельном за Вастолово на охоту. День стоял холодный. Тем не менее облава вышла веселая и удачная. Всего было убито 326 штук, из них пера — 81. Мною: 1 фазанка, 1 глухарка, 12 тетеревей, 2 вальдшнепа, 3 серые куропатки, 4 русака и 12 беляков — всего 35 штук. Вернулся домой в 5¾. Играл с маркером Яхт-клуба на биллиарде. Раз обыграл сто из 4 партий».
— А вот еще одна запись:
«1 октября. Охота на оленя в Медонском парке, взято два; поездка туда и обратно верхом. 5 октября. Охотился у Шатильонских ворот, убито дичи 81 штука, охота прервана событиями…»
— Где это — Шатильонские ворота? — спросил Крякша.
Степан Петрович откинулся на спинку стула.
— В Версале.
— А Версаль где? — спросил Крякша.
— Под Парижем. Это вроде нашего Петергофа.
— А при чем тут Париж? — спросил Крякша.
Весь класс замер. Степан Петрович хотел что-то сказать и открыл было рот. Да так и остался с открытым ртом. Потом поставил локти на кафедру и закрыл руками лицо.
— Запарился, — шепнул мне на ухо Еремин.
И вдруг кто-то хихикнул:
— Хи-хи, — раздалось в классе.
Было очень тихо, и все слышали «хи-хи».
Я обернулся к Крякше. Нет, это не он.
Смеялся сам Путаница.
— Хи-хи, — всхлипнул он и отвел руки от лица. На глазах у него блестели слезы, от смеха. — Ребята, я спутал, — сказал он. — Это не тот феодал.
Нам непонятно было, почему он смеется.
— Как — не тот феодал? — спросил Ванька.
Но Путаница не мог говорить, он давился смехом.
— Это ты виноват, — выговорил он наконец и показал на меня пальцем. — Ты мне спутал листки.
8
— Я читал вам два дневника — дневник Николая и дневник Людовика, — сказал Степан Петрович. — В четыре часа в университете у меня лекция по французской революции.
Тут Крякша сорвался с места. Он с разгону забылся и назвал Степана Петровича Путаницей.
— Не может быть, Путаница, — сказал он. — Не может быть, чтобы два разных человека писали один дневник.
Степан Петрович нисколько не рассердился. Может быть, он не заметил.
— Эго два разных дневника, — громко сказал он. — Один написан был в пятом году, а другой в 1789.
— А почему там сказано, что «события помешали охоте»?
— Так это ж и есть французская революция, — засмеялся Путаница. — В этот день все население Петербурга — мастеровые, рабочие, торговки — отправились в Версаль просить Людовика, чтобы он переехал в Париж, поближе к Собранию генеральных штатов.
— В Петербург, — поправил его Еремин.
— Да нет же, в какой Петербург! — воскликнул Степан Петрович и встал со стула. — Людовика усадили в карету и повезли в Париж, в Тюильри. В Тюильри ему негде было охотиться. Пришлось ему ездить далеко в Вильнев-де-Руа. Вот видите, что он пишет в 1791 году:
«3 октября. Прогулка верхом в 9 часов в Вильнев-де-Руа. Убито 3 фазана. В 9 часов прием депутации Законодательного собрания; ехал туда и обратно в карете. В 53/4 часа итальянская комедия — „Два охотника“. У меня появился геморрой, пил сыворотку».
Тут мы поняли, что на этот раз Путаница не виноват. Этих феодалов очень легко спутать.
— Комедия про двух охотников, — тихонько сказал Степан Петрович, и нам стало очень смешно. Еремин так хохотал, что сполз под парту. А мы с Крякшей и другие пошли к кафедре, чтобы разобрать дневники — отдельно Николая, отдельно Людовика. Мне все не верилось, что это правда, но Путаница показал нам и книжки, из которых сделаны были выписки.
В это время прозвонил звонок.
— Половина четвертого! — схватился Степан Петрович. — Мне надо бежать, а то я опоздаю на лекцию.
— Погодите, мы не успели еще разобрать, — сказал Крякша, но Путаница сгреб листки, как попало, и сунул их в портфель. — Не надо, не надо. Я все равно спутаю, — засмеялся он. — Их уже спутала история.
— Вот так история! — фыркнул Еремин, вылезая из-под парты. — А ведь правда, Путаница не виноват.
