Вернуться к содержанию номера: «Горизонт», № 12(62), 2024.

Ганс Густав Бёттихер (псевдоним Иоахим Рингельнац он возьмет позже, в знак своей любви к морю, о чем еще скажем), 1883—1934, родился в культурной и обеспеченной семье… где вскоре почувствовал себя как утенок, появившийся на свет в курятнике. Впрочем, прикосновенность к отцовской специальности — Бёттихер-старший был известным и даже знаменитым книжным иллюстратором, причем иллюстрировал он в том числе и собственные литературные произведения, в основном детские сказки, — отчасти все же проявлялась: мальчик с детства любил рисовать, хотя и не занимался этим профессионально. Сочинять фантасмагорические истории он тоже начал очень рано, но до поры их не записывал.
Едва достигнув восемнадцати лет, юноша уходит в море матросом. Там ему, человеку маленького роста и хрупкого телосложения (что не отменяло драчливый нрав), вдобавок обладавшему почти гротескной внешностью — огромный крючковатый нос так и провоцировал грубоватых матросов на соленые шутки, — пришлось крайне нелегко. Но, даже утратив романтические иллюзии, в море он не разуверился, хотя плавания по всему свету чередовались с подработками в приморских городах, а то и полуголодной безработицей. За это время Рингельнац (будем называть его уже так, хотя публиковаться под этим псевдонимом он начал только после Первой мировой) освоил множество профессий, порой самых неожиданных. Одно из его рабочих мест называлось «носильщик удавов»: огромных змей и других экзотических рептилий следовало носить на руках открыто, чтобы почтенная публика имела возможность попозировать с ними рядом, ощутить себя отважными укротителями, сделать фотографии на память. Другой раз ему довелось, закутавшись в длинную шаль, изображать старую цыганскую гадалку, благо внешность и рост позволяли (существует даже его автопортрет в этой роли). Впрочем, это произошло уже после того, как Рингельнац открыл в себе артистический талант и начал чередовать портово-моряцкую жизнь с богемной, столь же часто приводившей его на грань нищеты. А еще он в одной из портовых драк получил сильную травму глаза, но последствия этого проявились не сразу.
Несколько лет Рингельнац известен в основном как эстрадный чтец собственных реприз, поэтических и прозаических. Понемногу он начинает их оформлять как рассказы, обычно гротескно-фантастические, — и публиковать, сопровождая собственными иллюстрациями. Это приносит ему весьма значительную известность… но гораздо менее значительные деньги.
Первую мировую войну Рингельнац встречает в кригсмарине, причем завербовался добровольцем, еще за несколько месяцев до начала военных действий, хотя имел фактически белый билет: частичная потеря зрения уже встала во весь рост. Эта последняя причина помешала ему принять участие в собственно боевых походах, хотя он туда и рвался. Впрочем, отрезвление приходит быстро. Тем не менее службу Рингельнац продолжает нести, в 1917 году получает звание лейтенант-цур-зее… тогда же формирует такой сборник военных рассказов, который цензура небезосновательно сочла антивоенным и запретила.
К Ноябрьской революции 1918 года Рингельнац сперва отнесся положительно, однако на заседании одного из первых же матросских Советов потребовал уважения к своему офицерскому званию. В ответ послышались насмешки — и на этом его поддержка революции завершилась.
В послевоенные полтора десятилетия Рингельнац становится очень популярным артистом эстрады и кабаре, автором не просто известных, но и знаменитых скетчей, а также собственноручно проиллюстрированных сборников стихов и рассказов. Растет спрос также на его рисунки и акварели, выполненные в экспрессионистско-примитивистской манере. Тогда же утверждается псевдоним Ringelnatz, созданный, по разным сведениям, на основе либо народного немецкого названия водяного ужа «Ringelnatter», самой водоплавающей из европейских змей, способной при этом комфортно чувствовать себя и на суше (тогда это фактически получается «Человек-амфибия» в беляевском смысле!), либо матросского названия морского конька «Ringelnass», «колокольчик». Имя же Иоахим, это как раз известно точно, было взято из Библии: в буквальном переводе с еврейского оно означает «Господь все устраивает» — и Рингельнац с немалой самоиронией счел, что оно полностью соответствует его стилю жизни. В том смысле, что плошай, не плошай, надейся на Бога, не надейся — он все равно устроит как-то по-своему и остается только с этим мириться…
Эта часть псевдонима оказалась пророческой: Рингельнац с молодой женой, такой же безбытной, как и он сам, совершенно не умели обращаться с деньгами. Поэтому момент, когда у власти в Германии оказываются нацисты (усиления которых они тоже как-то не заметили), семья встречает без финансовых накоплений. А для новых немецких властей такое идеологически чуждое по всем параметрам творчество оказывается в высшей степени неприемлемо — и они тут же накладывают на него запрет.
Единственным способом, позволяющим спастись буквально от голодной смерти, оставались заграничные гастроли в Швейцарии, туда еще выезжать было можно. Но Рингельнац отправился в эту поездку с уже пошатнувшимся здоровьем, в тяжелом стрессе, полуслепой (ранее пострадавший глаз сдал окончательно) — а это способствовало пробуждению ранее залеченного, «спящего» туберкулеза, подхваченного еще на прошлом, неустроенном этапе жизни. Резкое обострение болезни, прервавшее выступления, — и смерть в полной нищете, то ли непосредственно от туберкулеза, то ли от общей неустроенности в целом…
Абсурдистская сказка «О великане Табарце» написана в 1924 году, для Рингельнаца одном из самых благополучных. Очень чувствуется, что ее создал человек, побывавший во всех концах земного шара. Иллюстрации столь же абсурдистские, как сюжет: ни одна из птиц — совершенно точно не ласточка, да и буквально таких эпизодов в жизни мухи Вупи все-таки не было…
Маленькая муха Вупи родилась на лугу в окрестностях Екатеринбурга. Она была необыкновенно любознательной: настолько, что это не просто доходило до наглости, но и превосходило всякую наглость. Из-за этих своих качеств она неизбежно кое-чему научилась, пусть даже помимо воли. Чем и бахвалилась, задирала нос перед ровесниками и была неблагодарной к учителям, доведённым ею до изнеможения.
Так, она часто навещала свою немощную бабушку, чтобы послушать старые мушиные легенды: о змее Липкой Ленте, которая свешивается с люстр и потеет сахаром, чтобы приманить жертвы… о чудовище Мухобойке, обитающем на людях… И другие предания, их было много. Но, когда истории подходили к концу, гадкая муха разбрасывала яйца, отложенные бабушкой во время повествования, а после этой выходки (или другой, их тоже было много) улетала, не попрощавшись, чтобы наврать с три короба друзьям и знакомым о своих приключениях с участием змеи Липкой Ленты.
Соплеменников поражала смелость Вупи. На их глазах она села на рельсы — как раз приближался скорый поезд — и торжественно поклялась, что скорее поезд остановится, чем она отступит. Локомотив засвистел.
— Он испугался! Он кричит от страха! — ликовала Вупи.
Поезд затормозил и остановился.
— Вот видите!
Из поезда вышло много людей.
— Это детёныши, он живородящий, — важно объяснила Вупи и, ведомая любопытством, полетела к ним, чтобы исследовать своим хоботком.
Она попала в нутро поезда и заняла место на бутерброде с колбасой, который балансировал на коленях одного из эмбрионов (ибо как ещё называть это существо, раз уж оно пока что не родилось?).
Транссибирский экспресс продолжил свой путь через Челябинск и Иркутск. Рядом с бутербродом лежала закупоренная бутылка с кофе. Пробка походила на кору дерева, а на ней висели две сладкие капли. Но подобраться к ним мухе помешали беспокойные пальцы хлеботорговца Пагеля. Он попробовал открыть бутылку без штопора. Поскольку эта попытка потерпела крах, Пагель карандашом протолкнул пробку внутрь и отпил глоток. Когда Вупи поняла, что теряет сладкие капли, она бросилась следом. Внезапно её затянуло в водоворот, она потеряла сознание, а когда пришла в себя — то обнаружила, что плывёт. Как однажды в лужице за калужницей. Частично инстинктивно, частично по рассказам бабушки Вупи знала, что это опасно, можно утонуть, поэтому была на седьмом небе от счастья, когда заметила пробочный островок, добралась до него и набросилась на сладкие капли. При этом её задние лапки занялись вытиранием.
Господин Пагель закупорил бутылку бумагой и положил её в багажную сетку, затем некоторое время читал, а потом лёг спать.
Пять дней позже в Сретенске в купе подсела маленькая казачка. Хлеботорговец хотел было начать разговор, но так и не собрался: всего шесть дней спустя девушка уже сошла с поезда в Хабаровске.
Для Вупи это были ужасные мушиные года: землетрясения, сизигийные приливы1, штормы и страшные водяные смерчи. Она сделала одно научное наблюдение: после каждого смерча бурый пруд вокруг неё мельчал.
Давно и неоднократно объятая ужасом муха пробовала покинуть пробковый островок. Она даже пообещала себе, что начнёт новую, более достойную жизнь. Однако со всех сторон её окружал застывший слой воздуха, через который можно было смотреть, но не пролететь. Сначала Вупи подумала, что это ей кажется, но со временем убедилась: окружающий мир сделался именно таким. Таким он и оставался ещё долго.
Пятнадцать вёрст не доехав до Владивостока, поезд сделал вынужденную остановку на открытом участке пути из-за поломки оси. Хлеботорговец открыл окно, чтобы спросить о причине остановки. Затем он открыл бутылку, чтобы попить, но вынужден был чихнуть, прежде чем отпить глоток. Этим мушиным днём Вупи последовала за воздушным потоком, нашла выход и оказалась на лугу — её лугу. Оставив опасность позади, она тут же надулась от важности.
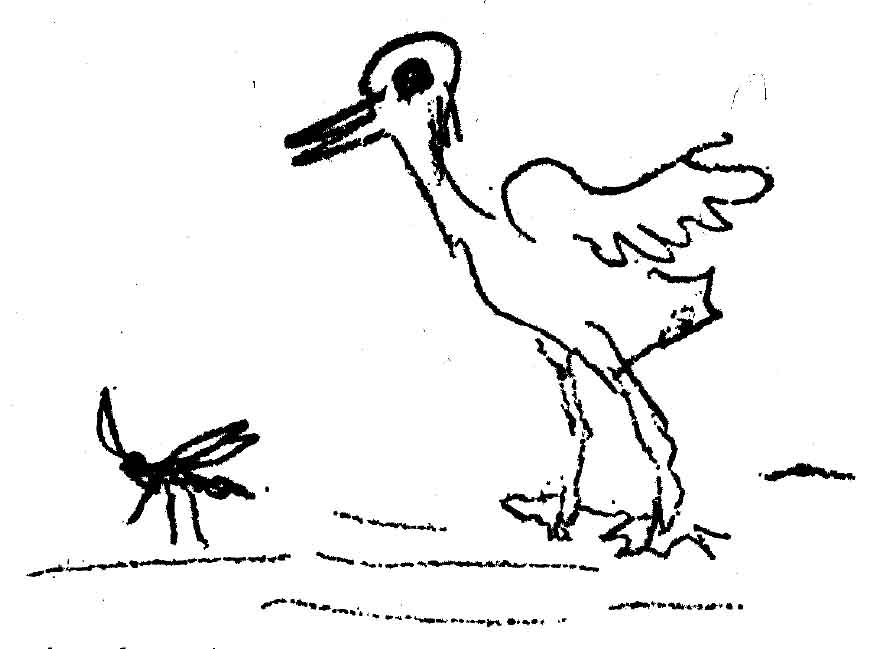
Странно, однако: цветы были другими. Как же долго… Ведь казалось… Вупи углубилась в философские размышления.
— Да!.. Ага!.. Странно!.. Но — конечно же!..
И всё-таки: сколько же времени прошло? Напрасно искала Вупи друзей детства. Наконец рядом с останками кролика она встретила старого самца навозной мухи: кажется, его звали Тоббольд. Это был тёмный пролетарий, но из любопытства Вупи заговорила даже с ним.
— Как здоровье, дядюшка Тоббольд?
Старик молча уставился на Вупи. Очевидно, он выжил из ума, да и выглядел не лучшим образом.
Но, когда Вупи встретила других мух, которые тоже не отвечали ей и выглядели безобразно, она задалась вопросом: могло ли выжить из ума целое мушиное поколение? Затем она продолжила мысль: я, Вупи, подняла вопрос, возможно ли безумие у целого поколения мух. Так как мои соплеменники не способны понять меня, то я, наверное… нет, было бы нескромно назвать себя гением…
На столь высоком полёте голова поневоле кружится. В двадцати метрах Вупи рассмотрела знакомую из юности и по рассказам бабушки опасность: лягушку. Вупи было недостаточно убраться подобру-поздорову, она решила испытать свой ум, летая чуть выше высоты прыжка лягушки и дразня ее. Лягушка квакала сначала гневно, потом неуверенно. В этот момент триумфа Вупи до полусмерти испугала ласточка, пронёсшаяся мимо неё буквально на расстоянии мушиного хоботка. Вупи бросилась прочь. Ласточка — за ней. Вупи присела на ветку. Ласточка тоже. Сердце Вупи билось, как сумасшедшее.
— Я не съем вас, — сказала ласточка успокаивающе, — я уже сыта.
Ласточка искала разговора.
— Я совсем недавно вернулась из Африки. Над морем… Вы знаете, что такое море?
Вупи боязливо помотала головой.
— Не бойтесь, — сердечно произнесла ласточка. — Думаю, вам будет интересно узнать о моих приключениях.
— Если вы поклянётесь, что не съедите меня, — ответила охрипшая от волнения Вупи.
Ласточка поклялась.
— И, кстати, я прекрасно знаю, что такое море, — дерзко заявила Вупи. — И вообще, за мою тысячелетнюю жизнь я много чего…
— Тысячелетнюю? — перебила ласточка.
— Да, тысячелетнюю. Я ещё застала времена, когда здесь местами замерзал воздух. Не знаю, говорит ли вам что-то понятие «ледниковый период»?
У ласточки был глуповатый вид.
Вупи приосанилась и продолжила, не обращаясь ни к кому конкретно, но при этом громко и чётко, словно передо мной было множество слушателей:
— Это было в те давние времена, ещё до шторма, когда я остановила скорый поезд…
— О, рассказывайте дальше! — попросила ласточка.
— Нет, я не люблю вспоминать об этом. Кроме того, сейчас меня занимает серьёзная философская проблема. Вы ведь наверняка знаете, с кем имеете дело?
— Нет, — ответила ласточка.
— Нет? Забавно. — Вупи подчёркнуто рассмеялась. — Но ладно. Не стесняйтесь, говорите дальше — так, как привыкли с себе подобными. Вы хотели рассказать о ваших приключениях. Мне, пожалуй, будет небезынтересно послушать такое в примитивном исполнении, на наивном языке простого люда.
— Мне неловко, — сказала ласточка.
— Ерунда! Итак, продемонстрируйте вашу ласточкину латынь!
Ласточка начала рассказывать длинную историю без особых изысков. Вупи положила три свои ноги на три другие и слегка отвернулась, словно слушала вполуха. На самом деле она совсем не слушала, а строила планы бегства. Внезапно ласточка замолчала.
— И? Что было дальше? — спросила Вупи.
— Я проголодалась, — сказала ласточка смущённо и густо покраснела. В этот момент Вупи ринулась вниз так быстро, как только могла, чтобы спрятаться в траве. Там её проглотила лягушка. А красная ласточка несолоно хлебавши полетела назад в Африку, где своим цветом привела в бешенство не одного буйвола.
Вскоре один учёный, родом из Канады, анатомировал лягушку, нашёл в ней муху и воскликнул:
— Ну и ну!
Конечно, он сказал это по-английски: «Egg, egg!»2
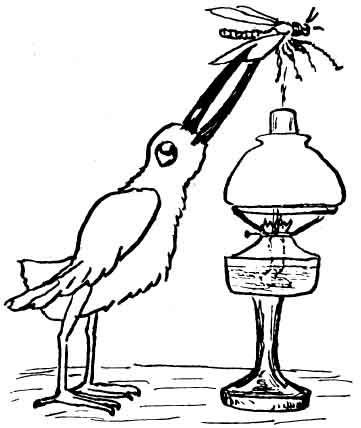
Так уж случилось, что именно в этот момент Вупи отложила своё первое яйцо. Она вполне достигла подходящего возраста. Эта случайность повергла учёного в блаженный трепет. Открытие было сделано, теория доказана практикой: животные разумны, подобно людям; между насекомым и профессором установилась возможность общения. Силой этого убеждения исследователю удалось достичь некоторых успехов. Нужна была только трубка с тонкими мембранами. К счастью, именно такую профессор (фамилия его была Нипп) привёз с собой из Канады.
Язык мух частично состоит из пантомимы. Понятно, что «Доброе утро» на мушином будет не «Good morning», но если бы проблемы заключались только в этом… Например, если вы хотите спросить «Который час?», то для этого нужно повернуть на тридцать градусов вверх ногу. Среднюю правую…
А ещё — фонетическая часть этого языка не знает мужского рода.
Тем не менее профессор Нипп с неутомимым усердием учил мушиный — и вскоре постиг его настолько, что сумел заключить с мухой договор. Она обязалась сопровождать профессора во время шестимесячного турне с докладами по Канаде, поддерживая его презентации быстрыми ответами и послушными реакциями. В свою очередь, он обещал предоставить ей на время путешествия подобающие питание и жильё, а также гарантировал, что выступления мухи будут служить исключительно научным целям, а не удовлетворять меркантильные побуждения.
Вупи подписала договор по-мушиному: несколькими объёмными крапинками.
Профессор Нипп связался с Канадой, организовал залы, рекламу и импресарио. Он купил для мухи прекрасный маленький шкафчик, наполнил его гарцским сыром, клубникой и конским навозом — после чего пригласил Вупи войти.
Затем они с Вупи сел на судно.
Путешествие протекало отлично. Профессор, озарённый тем загадочным ореолом научности, пребывал в прекрасном расположении духа и был внимательным ко всем и вся. Днём он спускался в кубрик, угощал матросов коньяком и вёл с ними беседы. Это были странные парни — немного простоватые, но отнюдь не глупые, иногда даже задумчивые и не без чувства юмора. Обладая широким кругозором, они всё же придерживались весьма необычных суеверий, а фантазии их были причудливы.
Младший матрос Фритцше рассказывал о нечеловеческом великане Табарце, которого не раз встречал в море. Профессор Нипп только улыбался, но и товарищи не принимали Фритцше всерьёз, потому что он был родом из Фридрихроды3. Обиженный младший матрос вышел на палубу. Полчаса спустя он взволнованно крикнул вниз:
— Господин профессор! Господин профессор!
— Что случилось?
— Он здесь!
— Кто?
— Великан! Хотите посмотреть?
— Так точно! — отозвался исследователь и взобрался на палубу. За ним последовали и другие. Перед ними расстилалось спокойное море. Не виднелось ни берега, ни кораблей. На синем небе не было ни облачка. Матросы захохотали.
— Ну и где он, ваш господин Табарц? — дружелюбно спросил профессор Нипп.
— Там! — Фритцше сделал рукой широкий жест.
— Где же?
— Видите синее небо? — спросил Фритцше.
— Конечно, но…
— Так вот: всё синее небо — это лишь малая часть одной из пуговиц на штанах великана Табарца.
В этот момент профессора позвал корабельный стюард. Оказывается, его каюту взломали. Это сделал Фритцше, когда в одиночестве бродил по палубе: без злого умысла, из чистого любопытства. В каюте Фритцше обнаружил мушиный шкафчик. И, посчитав главным сыр и клубнику, а навоз и муху — второстепенным, он слопал первое, а второе — раздавил каблуком матросского ботинка.
Перевод с немецкого Дарьи Странник под редакцией Григория Панченко
1 В данном случае речь идёт о приливах, случающихся во время новолуния и полнолуния. Они особенно велики, потому что при таких обстоятельствах накладываются друг на друга лунные и солнечные приливы. Автор — моряк, так что для него подобное сравнение совершенно естественно. (Здесь и далее — примеч. перев.)
2 Игра слов: «Яйцо, яйцо!»
3 Немецкий аналог Пошехонья: маленький захолустный городок, глубоко провинциальный — к тому же, по меркам моряков (в основном бывших родом из приморских городов), безнадёжно «сухопутный». Впрочем, автор, при всей своей любви к морю, тоже был по происхождению «сухопутной крысой» — и не исключено, что тут он вспоминает об отношении в матросском кубрике к нему самому.